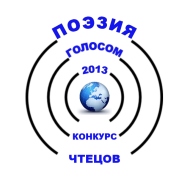Стихи представлены по циклам
1. Из ранних стихов: Эскиз Как всё продумано и мудро: какое ласковое утро. Февраль – как раковина: свет из розового перламутра, но снег не серебрист, а сед. В пространстве замкнутом, дворовом, где день по бликам доворован гуашью тьмы, как страж, одна степенно шествует ворона, и зреет белая луна. . . . Вербная графика в небе высоком. Пасха близка. В нашем дворике старом – рук и передников белые стаи. Как ты давно меня не удостаивал взглядом своих распахнувшихся окон! Первое детство – у неба в долгу. Детство второе – листвою зелёной машет и что-то кричит на бегу. Третье – за всё расплатилось с землею. Выметен липами неба ковер – нету ни облачка. В дворике старом новые мамы хлопочут у ставен. Здесь мы с тобой навсегда их оставим слушать несбывшийся наш разговор. . . . Рассветными первыми стаями птиц оброненный, клоун валяется ниц в листве прошлогодней – кафтан с позолотой, сходящей под ливнем с груди. Какого ты детства избранник залётный? Шарманку бессмертья крути. . . . Дом этот выискала, не сразу узнанный, чужими вывесками теперь взнузданный. В подъезде, как в ущелье – гул лестницы. То воды Леты на бегу плещутся. Взлетела крыша, дрогнул пол в то утро раннее, когда ушел гусарский полк на поле бранное. И дом рванулся за полком с холма, как с пастбища. И почернел уже балкон, всё так же падающий. . . . В новогоднюю ночь раздают долги. Бедный – властвуй! Богатый – бедствуй! Бьют часы, и расходятся потолки прямо к звездам в живую бездну. В новогоднюю ночь покидают кров поклониться снегам и душам. И другой язык, и другая кровь, и священны права идущих. В новогоднюю ночь раздавать долги да покинет корабль пристань. В новогоднюю ночь я прошу: долги до рассвета – до вечных истин. . . . Голос бьётся в границах комнаты, за которыми – одичание. До отчаяния мне знакомо там и потерянно – до отчаяния. Расставание лепим. Полночи свет беленой прорастает из окон. Спеленало меня одиночество, как бескрылую куколку, в кокон. Вот и всё – затонула душа, только звон колокольный под черной водою. Ты последнюю ночь мне остаться позволь не с тобой – со своею бедою. . . . Затихает день январский. И свеча в руке тиха. Замер век. Ваш профиль царский – контур древнего стиха. Я молчу. Я улыбаюсь. Обжигает пальцы воск. Вечер – в акварелях пауз наугад и на авось. Помолчите – мне так с Вами хорошо. Мне всё равно, что дары перетаскали Вы другим давным-давно. Ждать не будете – так с Вами хорошо – не догоню. Но всю жизнь протосковали Вы по моему огню. А теперь в залог седины – ни за что не отвечать. Но сегодня мы едины в наш – один из века – час. . . . Я – созревший одуванчик на подкошенном стебле. Стол, комод, трюмо, диванчик и Кандинский на стене. Дом без весел – словно лодка, на которой плыть нельзя. Почему то мне неловко посмотреть тебе в глаза. И бывает ли яснее невозможность вечных чувств? Ну, смелее – дунь сильнее: я по свету разлечусь. . . . На земле опять ловлю взгляд, что в поднебесье поднял. В этом мире я люблю утопать в перине полдня, Страсти броситься на зов и потупить робко очи, несводимых полюсов совмещая многоточья. Я люблю сказать с утра «я люблю» – без всех загадов. Всем рассветам я сестра. Я подруга всем закатам. Шить из бархата ночей платья бальные люблю я. Если этот мир ничей – как хочу его слеплю я. . . . Жребий мой тяжкий шлёт на галеры: сердце монашки – в теле гетеры. В счастье – разруха. Мир мой так соткан: Мудрость старухи – в блажи красотки. Жизнь в свой ошейник прячет, стегает. Мрачный отшельник – в страсти цыганки. Вечная мука. Омут глубокий. Тайная смута в лике ребенка. . . . Картошка на плите горит. Молчанья ветхая заплата. Когда хотелось говорить – ещё хотелось не заплакать. Что хочешь нынче попроси – ведь счёт заранее оплачен. Когда хотелось не простить – ещё хотелось не заплакать. Зачем ты, дурья голова, не поднялась с душой на плаху? Не жизнь закончилась – глава, но так хотелось не заплакать. . . . Мы увидимся, мы обязательно в полдень в полупустой троллейбус забредём. Дождевая ссадина на стекле. Был счастливым если б тот билет! Молча рядом сядем мы, звякнув мелочью в кошельке. Как слеза – дождевая ссадина у тебя на щеке. А потом в полусне объятия слов привычных не отыщу. Ты проводишь меня и я тебя - отпущу. . . . Это время – как сон. Я не знала, что так засыпают: будто щебнем меня засыпают или косят косой. Это время – кусок мешковины в атласе. Будто взял кто и сглазил. Будто – косят косой. От разлуки с тобой не осталось ни страха, ни боли. Просто в засуху в поле я стою над несжатой судьбой. . . . Как себя ослепили мы? Почему себе врём? Мы живём с нелюбимыми, а с любимыми рвём. Жизнь как шубу изнашивать, не меняя пошив, у желанных измаявшись, к нежеланным спешим. И какой ни слепили бы образ счастья – всё дым: расстаемся с любимыми, с нелюбимыми – длим. . . . Всё шли дожди, и так же разговоры стихали и разыгрывались вновь. Мы расставались наскоро, как воры, не называя имени – любовь. И времени безудержные спицы, мелькая, обходили нас кругом. Мы расставались тайно, как убийцы, навеки породненные грехом. Пустынный двор. Колёсами задетый песочный домик. Клёна силуэт. Мы расставались искренне, как дети, не знающие, что разлуки нет. . . . Зайдём с тобой в пустынное кафе, закажем кофе, выпьем шерри-бренди. И жизнь моя начнёт тихонько бредить и бередить забытое. В графе «твоя любовь» опять поставлю прочерк. А, впрочем, также в прочих графах – всё, что есть у нас с тобою, так непрочно. И кажется, что не в кафе, а в сон мы забредём – в ту жизнь, которой так достойны и которой нет на свете. И вся судьба попала мимо рта – по-крайней мере выпьем шерри-бренди! Ты сядешь за рояль, который чуть расстроен, и покажется мне снова, как неразборчив почерк наших чувств – тем более, когда земной основы за ними нет. Ты едешь? Не корю. Здесь пригород. Тебе пора на трассу. В пустом кафе – и людном, и бесстрастном я пламенем взовьюсь и прогорю. . . . Я ёлка лесная – такой уродилась, сорю одиноко снежинками дней, пока не влюбилась и не нарядилась в сияние ярких летучих огней. Но праздник весёлый у ёлки недолог, Мгновенье – и вот уже падают в снег клочки мишуры и слезинки иголок, которые дворник сметёт по весне. И ты, мой случайный прохожий, от скуки за новою ёлкой пришел на базар. Твои обнимают бестрепетно руки. Гранит – твoё сердце, глаза – как базальт. К себе привезёшь, торопливо украсишь, устанешь, остынешь, двенадцать пробьёт, зевнёшь, отойдёшь, восвояси укатишь. застыну, зачахну – тебя не пробьёт. И вот что решила – впервые, пожалуй, останусь в дремучем лесу нелюбви. Мне снежную шубу забвенья пожалуй и новых соблазнов гирлянды лови. . . . Притча о камне Неприкаян, упрекаем – перекрыл дорогу камень. Он и сам себе не рад – он хотел бы, как собрат, частью стать старинной кладки. С теми, в кладке, всё в порядке: там туристы и почёт. здесь же солнце так печёт, и дождей несносен гнёт, и любой ногою пнёт грубый камень на дороге – безымянный, недалёкий, неотёсанный, кривой, бесполезный, дармовой. Сколько их таких вокруг - не познавших чутких рук вдохновенных мастеров. Притчи, ясно, смысл таков: форма, масть, объёмы, цвет – в них ключа для счастья нет. Но пристрой, судьбина, нас в нужном месте в нужный час! . . . Не срывайся душа с земли, превратившись в безмолвный крик. Всё так радостно там вдали – подожди ещё только миг. Кто не любит – любить не мог. Отпусти – и взлети легко, надышись синевой немой. Там вдали всё так высоко. Кто ушёл уже – тот ушёл. Свет вдогонку ему пошли. Там вдали всё так хорошо. Журавли летят, журавли... 2. Из цикла «Янтарь времён» Как предисловье к жизни, послесловье к небытию – в единстве круговом летят стихи – неудержимы – словно рой мотыльков небесных на огонь свечи Господней... Пусть миры кренятся, и царства исчезают, будто сон, как древние инклюзы, сохранятся стихи в прозрачном янтаре времён. . . . Невольный перевод Возникла, видно, первой родинкой блажь сокровенная моя – душой так вольно переводится скупой подстрочник бытия: скучая над первоисточником, давно зачитанном до дыр, из закорючек и из точечек свой собственный возводит мир. Что будней неводом приносится – от жемчуга и до трухи – душой невольно переводится в любовь, молитву и стихи. . . . Детский парк, забытые качели над рекой – прозрачная луна. Листопадов вечное кочевье, снегопадов древних письмена. Возвращенье – взращиванье буден круговыми петлями времён, возвещенье – вещее пребудет, Мирозданью сданное в ремонт. . . . Просит душа не истин – просит душа неистовств. В волнах её наитий лёгкой скорлупкой плыть мне. Жизнь так легко исполнит музыкою небесной. К ней обращаюсь: спой мне, спой мне даже не песней – прядью сирени, в ливень до колдовства намокшей, тем, как твой шаг счастливый выплеснется – на мой шаг. Мигом объятья спой мне, вечность в себя вобравшим – чтобы было что вcпомнить на перевале страшном. . . . Мир с Вавилонской башни взирает бесшабашно, как языки и страны лишаются границ в глобальной перетряске, когда уже не важно, в каком углу планеты грызть бытия гранит. На языке английском – шекспировском и мглистом – пойду бродить по книгам – с иронией в ладу. На языке французском – в изящном платье узком – стиль современной моды усвою на лету. Когда колючий датский мне выучить удастся – смогу сполна отдаться рутине бытовой. На языке немецком однажды, может статься, философы откроют код Мирозданья свой. И есть ещё волшебный язык, в меня вошедший Господним повеленьем – так, как вошла душа, – на русском лишь, на русском лепечет вот и шепчет о самом сокровенном – изломом падежа и вкрадчивостью гласных. Нет слов нежнее русских – взывают: в наважденьи возвышенном живи. На крыльях речи русской всё в поднебесье рвусь я чтобы тебе на русском поведать о любви. . . . К столетию «Бродячей собаки» «Да, я любила их, те сборища ночные...» Анна Ахматова По небесам гуляет «Бродячая собака» Там Гумилев вальяжен, а Мандельштам смешлив, Ахматова печальна, Есенин-забияка сорвал до хрипа голос, в стакан вина налив. Там Хлебников вещает о тайнах русских гласных. О театре размышляет блестящий Мейерхольд. Там Маяковский юн и Тэффи так прекрасна, но смотрит волкодавом четырнадцатый год. И всё тесней смыкает в «Собаке» бесшабашной вокруг поэтов время свой окаянный круг. Их всех потом, как щепки, сметёт судьбою страшной, и захлебнётся кровью холодный Петербург. Но даровала им по яркой искре Вечность. И лишь благодаря их светлым голосам оправдан хоть немного век страшный, век увечный – разбойник с серебром в патлатых волосах. Плывёт по небесам «Бродячая собака». За столиком не я ли сижу среди своих? Горят стихи-созвездья – и хочется заплакать от красоты Вселенной и силы слов святых. . . . Монмартр Т.Н. По солнышку пройтись беспечно на Монмартре и в массовый стриптиз, вполне типичный в марте, вовлечься, побросать на землю куртки-шапки. Картины-паруса художнической шайке сулят неспешный ход через мгновенье в Вечность. Известна наперед земного скоротечность, Но устоит Гора возвышенная эта – творение пера бродячего поэта, сумевшего внушить разбуженному сердцу, что наважденье жить сродни тому усердью, с которым музыкант незрячий струны будит, с которым жжёт закат наброски беглых буден, чтоб колдовство стиха шептало на Монмартре: вот жизнь – её вдыхай всей грудью в вечном марте. . . . Поэту Напиши, напиши, как тебе плохо, как весёлой весной началась осень, просто так, со случайной дождливой ноты, с небылицы, бреда, нелепой дури. Просто всё расскажи. Начинай с малых неурядиц, потом раскачай лодку на солёной горячей волне, вёсла отпустив, и когда унесёт в море – напиши, потому что писать – это как молиться, не зная пределов Храма: мне – пришельцу – собаке – врагу – другу. Никому или всем – вдохновенно, горько. Ты же знаешь: пустая на вид трата тишины и чернил нас уводит дальше, чем пределы жизни – пробелы смерти – и рассказа о том, как случилась осень... . . . Р.М. Звучит рояль – и, кажется, так было ещё до сотворенья бытия. На клавишах – две птицы. Их любила всего бесстрашней... Может быть, и я вслед за тобой взлечу самозабвенно. Так испокон веков заведено: звучит рояль – разрозненные звенья значений тайных сходятся в одно. И тополиный пух смиренных, нежных, безумных слов касается щеки. Звучит рояль – всей силою безбрежной нас музыка спаси и защити. Пусть мир невнятен, ложен, ускользаем, но над мельканьем призрачных теней звучит рояль, и мы с тобою знаем: прекрасней ничего на свете нет. . . . Эмиграция Жесты словно из жести, грация манекена и мимо взгляд: мисс железная Эмиграция – ты не женщина, ты солдат. Это ты поначалу умница- чаровница, зато потом как забросишь плутать по улицам в равнодушный людской поток! Лица заперты словно – ключик всё не отыщется. Есть ли он? Как мы долго, как трудно учимся в незнакомый вживаться сон, именуемый кратко «Западом»: в речь невнятную за окном, в мир, который нам ни по запахам, ни по замыслам не знаком; где так редко и немощно снег идёт, будто светлых лишился сил, в мир, где фразу по-русски нехотя произносит с акцентом сын; где края совмещаем, тужимся – швы расходятся каждый миг. Короля, что был голым, ужасы – эмиграмма на нас самих. Счастья бедная эмитация. Тонких струн бытия распад. Мисс жестокая Эмиграция – мягко стелешь, да жёстко спать. . . . Бабушке За ладьёю твоей ладони тороплюсь – май цветёт, маня. Я не знала тебя молодою. Не увидишь взрослой меня. Ах как мир ещё безупречен и изучен ещё едва. Мы считаем: один скворечник, три, четырнадцать, двадцать два. Небо первой грозе покорно. Когда дождь зашуршит слабей, мы бездомных собак покормим. И конечно же – голубей. Пусть нам ливень ещё послужит - станет улица как река. Пробежим босиком по лужам – детства светлые берега. Нины две – мы всегда умели безрассудством любви прельстить. За мои тупики и мели ты успела меня простить? Одна строчка ещё дополнит жизни грустные письмена: Я тебя молодой не помню. Ты не видела взрослой меня. . . . Московским друзьям Когда речи чужой безнадежно прорехи латаю, когда сердце хандрит, и тянуть уже больше нельзя, я сажусь в самолет «Копенгаген-Москва» и взлетаю на свой горний Олимп, где меня ожидают друзья. С каждым годом прочней наших судеб незримая склейка. С каждой встречей ценней общей памяти собранный клад. Кто я, право, без вас – неумёха, чудачка, калека в виртуальном раю, где брожу наугад невпопад. Вам в глаза посмотрю – и любовь моя в них отразится. Наша юность пошлёт к нам с хорошею вестью гонца: пусть нам время-гримёр размалюет безжалостно лица, но душа-режиссёр остаётся собой до конца. Отыграем ещё много пьес – и весёлых, и грустных. Замок Гамлета пуст, и извечный вопрос разрешён: я спешу к вам, друзья, чтобы – быть, надышавшись по-русски, пока нам на Олимп беспрепятственно вход разрешён. . . . Очерчивай, озвучивай границы – в их шумных мастерских и ткётся жизнь. Смерть – безгранична. С этим примириться ещё черёд настанет. Привяжись к невидимым оковам, огражденьям – затей в пределах этих кутерьму. Иного не дано, ведь и рожденье – вселение в телесную тюрьму. И всё-таки в прекрасном заточеньи любви и веры, творческой тоски – проявленней бытийное теченье, пронзительней бессмертия ростки. Пусть памятью свершается плененье и охраняет многоликий смысл граница-слово... Без надменной лени вязанием земных петель займись. . . . В глухой темноте Вселенной цветной балаган – Земля – вращается. Поколений ушедших легка зола. Нам время, как погремушка, заброшено в колыбель: играйтесь, пока на ушко не скажут: своё пропел, пора перейти в безмолвье – в пространство без глаз, без уст; в иные миры – без молний страстей, без земных безумств. Но это потом – пока что всё длимся, горим, творим, стоим на боку покатом Земли, театральный грим накладываем усердно, не зная своих ролей. Зовём в режиссёры сердце, с достоинством королей проигрываем и ссуды, и судьбы, пока стрелой секунды вперёд несутся, как гончие: век долой как миг. Но пока не смылся грим жизни – искусны мы в плетении милых смыслов над бездной вселенской тьмы – то музыкой, то стихами, а с их ворожбой свяжись, как стадо за пастухами, за ними пойдёшь всю жизнь. В глухой темноте Вселенной цветной балаган – Земля – вращается. Поколений грядущих светла заря... . . . Жизнь не гранит, а гибкость и текучесть, мерцанье тайн, а не сухой отчёт. Барана у ворот дубовых участь печальна, но по-детски счастлив тот, кто в облаках витал, оставив споры о том или ином значеньи слов, кто постигал, как сквозь разлуки поры упрямо пробивается любовь; кто знал, что всех мудрей та клинопись простая, что в медленной реке бежит из-под весла, кто видел, как легко былинка прорастает из-под гранитных плит – тонка и весела. . . . Очень нужно, чтобы было время ни на что – на странные раздумья в предзакатной комнате, плывущей в неизвестность. Унесло теченьем вёсла, но никто и не заметил, все спешили в разных направленьях. Очень нужно, чтобы было время ни на что – на долгое стоянье у окна, где памяти полоска, как пустынный берег после шторма, к горизонту тянется, и кружат чайки запоздалых сожалений. Очень нужно, чтобы было время ни на что – на акварели взглядов, интонаций, жестов, наваждений – тех, что нам нечаянную радость дарят – с каждым годом всё сильнее сплющенным в житейской наковальне. Очень нужно, чтобы было время ни на что, а может быть – на нечто? Впрочем, эти полюсы едины где-то там, в четвёртом измереньи. Очень нужно, чтобы было – Время. . . . Открою альбом – и торжественный глянец твердит: мы прекрасны, чисты и юны. И, право, без зависти тайной не взглянешь, как мы совершенны и как влюблены. Ещё ни морщинки, ни ниточки снежной в разлёте волос, и осанка стройна. Как мы вдохновенно друг друга и нежно целуем на свадьбе на все времена. С десяток рассеянных лет миновало – ты имя моё вспоминаешь с трудом. Но снимок твердит как ни в чём ни бывало о том, что мы вместе – навеки притом. Везувия пепел стираю с альбома Фотограф, да кто ты – скажи, наконец? ловец совершенства? создатель фантома? правдивый свидетель? отъявленный лжец? Век минет – у снимков края пожелтеют. И, может, услышу из космоса я. Как правнук мой дасткий вздохнёт по-житейски: чудила прабабка, да Бог ей судья. . . . 3. Из цикла «Клод Моне» Нас Клод Моне с тобой задумал, взяв подмастерьем светотень. Как дама с зонтиком зайду я в твой зыбкий и невнятный день. Всю многоликую палитру полутонов мы обновим, лишь никогда не опалит нас безумным цветом огневым, не переплавит – что поделать, тут изначально стиль иной, но в бликах всех несовпадений ты будешь искренен со мной. В той бессловесности явлений, где мимолётен каждый штрих, где никаких определений, как и пределов никаких. Как нежно на ключицу ляжет прядь растрепавшихся волос. Как ни к чему нас не обяжет то, что ничем не назвалось. Нас повезёт по кругу пони – какой изящный узкий круг! И я, конечно, не запомню не тронувших поводья рук. Вот если бы скакун горячий – не пони, то, сдаётся мне, сюжет бы строился иначе. Но не забудем: Клод Моне нас в спешке гения придумал. И, видно, мимо всех дверей, как дама с зонтиком, пройду я по жизни солнечной твоей. . . . Сменив на простое платьице наряды и светский лоск, я стала свечой, что плавится в руках твоих. Шелк волос и бархат ресниц – всё клонится к тебе, как к земле трава. Так страсти хмельная конница вступила в свои права. И мчится и топчет прошлые свидания, сны, слова. Всё то, что вдвоём не прожили, уже различу едва. Звёзд, пламени, ветра заговор, придумавших нас вдвоём. Я стала бессмертной заново на юном плече твоём. . . . Если хочешь – взлетай: буду небом. И водою я буду и хлебом. В безрассудстве своём непокорном если хочешь расти – буду корнем. За удачей отправишься следом – буду верным твоим амулетом. Если всё, что имел, проиграешь – сотворю из соломинок рай наш. Всё бесцельно с тобой и бесценно. Если хочешь – играй: буду сценой. Ну а если любовь нас с тобою вместе вылепит – стану судьбою. Все твои откровенья и тайны свято буду хранить, неустанно. Если хочешь уста – буду телом. Если хочешь оставь – буду тенью... . . . Дуют ветры, слетает листва с берёз. Этой осенью небо расскажет мне, что ты всё потерял, только дар сберёг мои губы бессонные пить во сне. Непредвиденной страсти бессменный жанр. Сладу с этим безумием сладким нет. В лабиринтах ночи блуждает жар первозданный – только прильнёшь ко мне. Прошлой памяти медленный переков – новый воздух и свет сообща творим. И душа выходит из берегов, подплывая к зрачкам твоим. . . . Обними – отними у всех, в мастерскую любви впусти, и узорами наших вех дни распишем мы, как холсты. Счастье боем колоколов поднебесных сорвёт с земли. Словно горный хрусталь, любовь бытие озарит вдали. Тонет в сумерках речи чёлн... В обход времени-палача так отважно и горячо я струюсь по склону плеча. . . . Я приложу тебя к себе – не по закону, не по праву. Как к драгоценности оправу – я приложу тебя к себе. Я приложу тебя к себе – как к крови тайную отраву, как к дикой вольнице управу – я приложу тебя к себе. Ещё – как белый снег к полям. К душе – нечаянную радость. Как нож, что делит пополам – на грех и святость. Как пламя – к гаснущей свече. как дождь – к засушливому лету. И как вопрос к тому ответу, что объясняет суть вещей. Я – не твоя. Ты – только мой. Ко мне таинственно приложен, как к ране – бинт. И как клеймо навеки – к коже. . . . Взорвись, ворвись ко мне грозою, развороши уют и лень – навстречу счастью и позору я выбегу, как в двадцать лет. Всё, что когда-то не сказала, я прокричу и улечу на небеса. Тебя глазами и проглочу, и уличу в бесцеремонности бесценной. Мы просмеёмся жизнь вперёд. Не размышляй – ворвись на сцену, где пьеса скучная идёт. . . . По двору – потайному колодцу - мы, виском припадая к виску, проскрипели по снегу – как лодку протащили к воде по песку. И когда между адом и раем обнялись на окраине слов, поняла, что совсем не играем в невозможную нашу любовь. Что живём – вдохновенно и слепо. Мимо – вёсен растрёпанный воз! Что мы есть, как печальное небо от морозов – без туч и без звёзд. . . . Не смотри, не топчись у дверей – не раздумывай долго – зайди же. Дай в тебя наиграться скорей, в череду твоих бурь и затиший. И не думай, что мне не видна нашей прихоти ветреной участь: испарится росой новизна – и исчезнет любовь, улетучась как туман, но мне дорог и миг твоей жажды почти на пределе. Не смущайся, иди напрямик. Сколько можно в обход, в самом деле? Просто дай наиграться тобой, надышаться, намучиться вдоволь. Просто сладостный ветер такой рвёт солому последнюю с кровель. . . . Расстанемся – всклокоченные ночи, как ведьмы, будут мне грозить клюкой. И, как всегда, превысят полномочья моей тоски, да и вообще – людской. Займутся будни грубым вычитаньем из жизни самых радостных вещей. И, как всегда, размоют очертанья моей судьбы да и людской – вообще. Но нежности урок, что был заучен, ты вспомнишь, чтобы в светлый день такой вернуться и утроить полнозвучье моей души, да и вообще – людской. . . . Эти встречи понарошку, эти тайные улыбки носим бережно, как брошки на заношенном безликом одеяньи строгих будней. Как суров и скуп закройщик! Жизнь была бы беспробудной без волшебных этих брошек. Мы любуемся по-детски как их солнце освещает. Вид их чуточку простецкий нас нисколько не смущает. Ведь мы эти украшенья носим тоже понарошку. Так – тоски для укрощенья и для радости – на крошку. Нам и нужно-то немного: два касания беспечных, слова два – с судьбой не в ногу и не в ноту с темой вечной, что всё трудно и печально на земном безумном шаре, где себе мы изначально ничего не разрешаем. Только, может быть, вот эти взгляды и прикосновенья – отступления в сюжете и бессмертия мгновенья. . . . Один фрагмент забывчивого века: туманный день раскачивал пруды, и кружево на яблоневых ветках спешило о весне предупредить. И шёл дурак среди кричащих чаек и дура с ним – короче, я и ты куда-то шли, дождя не замечая, и вкривь и вкось раскачивал пруды апрельский день. И белые туманы окутывали плечи, как меха. И помню, за старинными домами мелькнуло очертание стиха. И капал дождь – на яблони, на ивы, на лавочки, на чаек, на чело. И шёл дурак – наивный и счастливый, не понимая толком ничего. И дура шла – беспечна и нелепа. И дураку шептала: посмотри, Брезентом туч пускай закрыто небо, но раньше выключают фонари. И впереди – безудержное лето, без упряжи любовь и без границ. Навстречу шёл седой мудрец столетний и опустил глаза печально ниц... . . . Просто слушать, как ты говоришь и идти за волшебною флейтою так легко – дальше слов, выше крыш, как уже ни за кем не последую. Эти ноты мне слишком близки. Трудно сладить с их тайною силою. Оборвав наших встреч лепестки, называешь смешною и милою. Это просто твой голос вдохнул снова нежность в забывчивый шелест дней. Дирижёр-Восхищенье взмахнул своей палочкой – и в путешествие. С кем ещё в тех мирах воспарю, где житейских границ не предвидится? Ты не слушай, что я говорю. Пусть сыграет нам флейта–провидица. . . . Письмо к графу Калиостро ”После стольких роз, городов и тостов – Ах, ужель не лень Вам любить меня? – Вы – почти что остов, Я – почти что тень…” М.Цветаева Калиостро, вот и полдень Вашей жизни безымянной. Сколько масок Вы сменили, сколько разыграли драм! Что там платья, Калиостро – сколько судеб Вы измяли, отправляя мимоходом в монастырь прекрасных дам. Калиостро, вот и полночь. Как мы странно повстречались после всех свиданий Ваших, поражений и побед. Не губами, Калиостро, я Вас потчую – речами, и лежит, как меч, меж нами целомудрия обет. Постоим же на пороге. Дом мой, видно, дикий остров: вокруг табора хмельного – монастырская стена. Мой отказ как ножик острый? Ах, оставьте, Калиостро! Я-то знаю, что надолго ни одна Вам не нужна. Вы парили в поднебесье, Вы познали бездны ада. После стольких искушений хорошо знакомо Вам охлажденье обладаньем. Вам любви уже не надо. И приятнее, чем губы, трубка ветренным губам. Так прощайте, Калиостро! Вы чутки, как вольный ветер, и поймёте без намеков, почему нам дальше – врозь. Память обо мне, как пепел от костра, легко развейте, но поверьте, что на свете Вы один мне были в рост. Ну спешите, Калиостро – застоялась Ваша лошадь. Впереди – другая полночь, вся опять в соблазнах сплошь! Вам-то ведомо – и щели нет меж правдою и ложью. Правды Вы мне не простите. Я же Вам прощаю ложь. 4. Из цикла «Тень незабудки» Любовь – не оружье, не бранное поле, не возносящий, не славящий жест. Любовь – это то, что останется после парадов и торжищ, побед и торжеств. Ни позы, ни стати, ни пользы, ни проку – хрупка, бессловесна, нелепа порой, любовь – это то, что зацепится робко за тень незабудки, за птичье перо. . . . Поживём друг другом. Пусть в этом смысла и не больше, чем в лепете незабудок. Ведь ещё немного – и будет смыт сон и любви, и жизни... Как ни запутан узел гордиев всех событий – кто-то меч наготове держит. Сколько замков стоит забытых на песке...Но пока надежда есть, что радость пребудет вечно от ресниц, по щеке взбежавших, поживём друг другом – хотя бы вечер. Я глаза закрою, к тебе прижавшись. . . . Любовь – роскошная бесцельность в чернорабочем ритме дней, каприз, летучая бесценность, чем безнадежней – тем ценней. Моя последняя причастность к тому, что называют жизнь. ты, уходя не попрощавшись, на миг хотя бы задержись. . . . Целуй, целуй – вселенную барьеров развенчивай. Целуй, закрыв глаза. Целуй опять – и я всему поверю. Целуй, целуй – как целовать нельзя. Нежней, нежней и выше и сорвись и ещё нежнее ввысь – до нёба вплоть, до неба вплоть – до тех последних высей, где Духу исповедуется плоть. . . . Ты – часовая стрелка. За минутной моей – не поспеваешь. Лишь на миг мы сходимся, и вновь тебя миную. A через час опять едины мы. Вот так идём по замкнутому кругу, по циферблату под названьем жизнь. И всё-таки я восславляю руку, создавшую чудесный механизм. . . . Юна, доверчива, красива я знала: счастье впереди. И только об одном просила: Господь, любовью награди! Измен наученная болью, Чудес развеяв миражи, прошу теперь: Господь, любовью – будь милосерден – накажи. . . . Торопитесь любить. Торопитесь обманом и правдой. Торопитесь сейчас, потому что уже через миг расползётся пустырь, где шумели хмельные парады. И пойдёте в обход, где привыкли ходить напрямик. Торопитесь любить. Там, где я ликовала и пела, где в роскошном дворце королевой всходила на трон – царство мрачных руин – их присыпало щебнем и пеплом; ветра жалобный вой да сердитые крики ворон. . . . Я отпустила тебя на волю – и полюбила ещё сильней. Видно, один только мне дозволен грех этот светлый во мраке дней. Очи потупив, простым курсивом вымолвлю вновь обожанья суть: Как твоя юная грудь красива – та, на которой нельзя уснуть! . . . Не знали мы, по блику, по песчинке творя любовь в мельканьи лет и лиц, что с нею жизнь в старинном поединке, И город наш падёт, как Троя, ниц. И вот теперь иду с улыбкой строгой через чужой грохочущий проспект. И бродят сквозняки на новостройках моей судьбы, в которой чуда – нет. . . . Всю жизнь по чужим зрачкам кралась – нет зеркал кривей. Всю жизнь отдала речам и хладу чужих кровей. Всю жизнь по сухим губам расплёскивала любовь. О том, что всю жизнь не там я плакала – знал ли Бог? . . . Дым сигаретный. Моросящий дождь. Проступившая листва. Взгляд, ускользающе просящий, опережающий слова. Несовпадений наковальня. Дождь. Облетевшая листва. Бессонных пальцев воркованье, опровергающих слова. . . . Эти вещи – вне логики и вне знаний. Кто-то с вестью недоброй открыл конверт. Расставанье случается так внезапно, как машина ночью летит в кювет. Во вселенском безмолвии гаснет лучик слов спасительных, только далекий блеск звёзд – как проволоки колючей. И луны одинокой всплеск. . . . Ну вот и подошло такое небо, когда трудней всего остаться жить. Был край судьбы, и я кидала невод, но появились только миражи – осадок, взвесь, вся тинистая небыль, а были нет – не стоит ворошить. Пустынный дом, дожди, сырое небо. И надо жить. И невозможно жить. . . . Войти к тебе, как входит в дом к убившему давно убитый – той странной тягою ведом, когда условности забыты. Не усидевши за столом, сказать тебе весь стыд по сути и лечь не с телом, а с теплом – почти что вне имён и судеб. . . . Не смотрели на звёзды с тобой – так обнявшись, как будто навеки. В поддавки не играли с судьбой и любовь не спускалась на веки, как снежинка...В растрёпанной мгле всё скитались с тобой, как собаки. Просто день дохромал кособокий. Просто не было нас на земле. . . . К груди кто только ни прижал – никто в груди не удержал, растаял между строк, но каждый раз бывало жаль, что это навсегда разжал ладонь уставший Бог. . . . Тебя целуя в губы не по праву и отстраняясь и целуя вновь, я расставанья сладкую отраву сегодня расшифрую, как любовь. Но ночь пройдёт, погасит звёзды небо, и я под утро втайне запишу, что жизнь легка, и вновь свободен невод, который в Мирозданье запущу... . . . Чёрные глаза. Беззвёздный вечер. Траур по тому, кто был так светел. Полнолунье. Каторжные встречи. На круги своя летящий ветер говорит о том, как был мне близок тот, кого любить уже не надо. Мне не впрок Парисова награда – превратилось яблоко в огрызок. . . . Сыну Всё повторится: материнской чинной судьбы за мной вернётся катерок. Тебя подарит мне чужой мужчина, случайный, как апрельский ветерок. Ты вырастешь, уйдёшь – моя кручина. И женщина к тебе через порог шагнёт, чтобы воспеть любовь с мужчиной – случайным, как апрельский ветерок. . . . Стремительно и щедро лето с медовой прядью сентября. Опять бубнового валета я принимала за тебя. И в этой карточной охоте за счастьем всё казалось мне, что я – слепой канатоходец, лунатик при шальной луне. . . . Прости меня за все твои грехи – то мой резец скульптурный был небрежен. Ваянием не дома, а строки жила, не распознав бытийной бреши. Прости меня за будни как стихи, за праздники как будни – всё нелепо смешалось: на пиру моих стихий к вину любви не доставало хлеба. . . . Мы на вершине тайного стыда смотрели, как, ведомы пастухами, брели внизу покорные стада, и понуканий крики не стихали. Бичи свистали – дни плелись толпой, а нам шептала вкрадчивая Вечность, что неспроста мы встретились с тобой – вдали от пастбищ, чёрные овечки. . . . Возвращаю долги. Не люблю. Не любима. Не вечна. Ты меня проводи до пустой остановки конечной, где трава весела, и сирени беспечная нежность вдохновеннее страсти земной. Пусть вся эта безбрежность бытия повторится опять, повторится сначала и исполнится всё, что когда-то я не замечала. Мне вернутся долги, и я буду любимой и вечной. Так солги мне, солги – мой невстреченный, первый мой встречный! 5. Из цикла «Белые карлики» Мир просит хлеба и, конечно, зрелищ. И роскоши превыше головы. А я среди арен, дворцов и стрельбищ всё повторяю: хлеба и любви. . . . Чуть скрылась ночь, как чёрная пантера, и свет явил неприбранность пространства, ряжу в слова – цветные ткани смысла существованья оголённый хаос. . . . Мои прядильни и красильни всё примут – хоть неси рваньё. Мне сотворить самой по силам очарование своё. . . . О женщина – нежнейшая жестокость. Пушинки тяжесть. Лёгкость чугуна. Тропинка к незапамятным истокам. Наивная доверчивость лгуна. . . . Есть миг, когда мы в доме гасим свет, из общей упряжи рванувшись что есть силы, чтобы спросить и чтобы нас спросили – и чтобы Бог подсказывал ответ. . . . Хорош виноград, да поди-ка, отведай! Хоть ягодку в рот бы ценою любою. Как страшно мы все недолюблены в этом таинственном мире, что дышит любовью. . . . Хорошо бы время замедлить. Хорошо бы судьбу заметить. Замести следы пустоты. Замесить любовь. . . . Любовь – лишь театр, старинная игра? Возможно, но бывает ли живее кровь, что теперь стекает с топора бумажного, упавшего на шею? . . . Помолчи. Не мешай. Пощади. Я ещё побаюкаю сердце, как ребёнка больного. Иди – никуда от тебя мне не деться. . . . К любви придёшь дорогою окольной. Пусть говорят, что это – гибель, омут. Запреты победив, разбив оковы, как к самому себе придёшь – к другому. . . . Волос твоих коснусь губами. Да всё не так, да всё не в масть! Какой печальной икебаной стоит засушенная страсть. . . . Не жизни, не судьбы твоей хочу. Хочу лишь слов – как снов, прикосновений – как дуновений. . . . Отболевший, навеки пропавший, уезжавший на белом коне, горькой гарью разлуки пропахший – ты пешком возвратился ко мне. . . . Жизнь сегодня остра, как отточенное лезвие. И в помине нет ис-тупления. Ты – мой точильщик, моё главное следствие, весь – в фокусе моего исступления. . . . Я прислушиваюсь к твоим не-словам, не-звонкам, не-письмам. Сколько красок у этого НЕ, пейзажист пустоты! . . . Ты боялся со мной несвободы. Я боялась с тобой нелюбви. Оба были упрямыми – вот и разошлись, как в морях корабли. . . . Боялась быта. Любила тени. Была забыта, как привиденье. . . . Всходить на трон, потом на эшафот – история любви в веках такая. . . . Есть человек. И есть одно мгновенье любви, всё остальное – прах и тлен. . . . Нас вместе Бог задумал, но не осуществил… . . . И только шаг один и только миг от настоящего – к не стоящему... . . . Назвать – приговорить к концу. Лишь в безымянном – бесконечность. . . . В хитросплетеньях жизни качаюсь как в гамаке... . . . Держите нос по ветру в голове! . . . Боюсь, что этому капризу имя – Душа... . . . Ты не тоску умножил в мире – скуку. . . . Летучесть и липучесть бытия. . . . Всё выпрошенное – выпотрошено. . . . Мир в словах, как в скафандре . . . Сколько губами погублено тайного! . . . Согрешивший: согревший: сгоревший... . . . К плечу прижаться и прижиться навсегда... 6. Из цикла «Поединок с любовью» Поединок с любовью – всесильной, как голод и страх. Что ей гордость моя – истукан, замахнувшийся камнем. Что запреты мои – ни в одних на земле берегах не желающей течь – разбивающей всех истуканов. Поединок с разлукой – нелепой, как всаженный нож прямо в сердце рукою безумца – дышать невозможно. Что ей память моя? Что надежда? Настырная ложь. Что ей верность моя? Лишь могила – цветов не возложат. Поединок с любовью, когда уже нету границ между светом и тьмой, между счастьем и посвистом смерти. Этот вечный турнир, эта мука, что чистых страниц впереди больше нет, но зато слишком много отметин от кинжалов, рапир, пистолетов дуэльных и тех странных взглядов, клинком рассекающих души и судьбы. Поединок с собой. Поединок с любовью за всех, кто был ею клеймен и теперь уже ей не подсуден. . . . Может, гены это всё Клеопатры, страсть ведущие в смертельную точку? Никогда уже не сесть мне за парту, чтобы выучить совместность в рассрочку: принимать легко твои перелёты и ночей пустых гремучие смеси, чтобы сращивать легко переломы – каждый раз в одном-единственном месте. Наших встреч отгромыхали парады – и улиткой дни ползут еле-еле. Разделились мы на две наши правды – судьбы тут уже давно преуспели. Ты о том мне говоришь, что реальность нам показывает копья да вилы. Завладела мной обратная крайность – что и дня прожить в разлуке нет силы. Так разлука меня жжёт и так сушит – хуже огненной какой-то геенны. Понимаю всё умом вездесущим, но чудят в крови старинные гены. Клеопатрой, видно, ребус подкинут – тот, что вечным стал, в веках настоявшись – если я тебя однажды покину, то, конечно, от любви настоящей. . . . Суть любови по-русски – наважденье конца. Будто счастье – нагрузка. Будто нужно свинца боли в самое сердце. Так и рвётся из вен роковое усердье – расставаться навек. Всё кончать до начала. Как Ассоль ни зови – оставлять у причала паруса на крови. Мало моря и мало этим чувствам земли – лучше встать у причала, чем потом на мели оказаться – в разрухе бесконечных потерь. Видно, лучше в разлуке, чем в земной тесноте. Лучше сразу от быта улететь до небес. Лучше горя избыток, чем любви недовес в бытии, что мечтает зачехлить и ушить. Жизнь любви не вмещает – мука русской души. . . . Корабль отплывает – ура и салют! - начало любовного действа. Там краски и свет, там танцуют и пьют, и времени нет оглядеться. Там счастье – реальная мера вещей, и проба его безупречна. Корабль – для всех, но корабль – ничей. И это отплытие вечно. Там кто-то всесильный стоит у руля И правит умело, не наспех. «Титаник» – вот имя того корабля, и вечно суждён ему айсберг. . . . За оградой разлуки телеграфной строкой распускаются слухи, что ты болен другой. Я как лодка без вёсел, как цветок без стебля. Распускаются весны зеленеть без тебя. Осень нежную губит, растрепав, снегопад. Распускаются губы целовать невпопад. Радость выцветшим ситцем спалена по степям. И всё смерть распуститься норовит без тебя. . . . Вот так повернулись нежданно планеты – твоё появленье легко и напрасно. И как объяснить, что уже не ко мне ты вернулся, мы просто попали на праздник чужих миражей, и засовы-запреты упали с насмешливых губ, но не стоит былое вплетать в разговор. Вот за это и выпьем, в кафе опустившись за столик. Пространства прошедшей любви обернулись музеем, где страсть икебаной застыла. Нет больше дворов наших, лавочек, улиц, где боль, как гроза, так внезапно застигла. Уже трын-травой поросла скотобойня разлуки, и быль переплавилась в небыль. И как объяснить, что уже не с тобой я встречаюсь под этим растрёпанным небом? . . . Не уезжай – лучше убей: слаба закалка. Воркование голубей над вокзальной балкой. Так уже было сто лет до нас. Не стоит клясться. Жизнь забирают не только в час трубного гласа. Где-то за гранью словесных тем – кривых паяцев – Нежно скользнувшее бытие в движеньи пальцев. Дробь вдоль перрона. Опять на казнь – откуда силы? Этот старинный жестокий сказ – знать, до могилы. Где-то за гранью словесных нот – бессилье крови. Саван разлуки – земных пустот – не нов покроем. Женская смута: хотеть, чтоб сгрёб навек – до гроба. Женская мука: с престола – в гроб: любови проба. Не уезжай. Просто – убей. Слаба закалка? Воркование голубей над вокзальной балкой. . . . Я тебя разлюблю, разлюблю до утра, до рассвета – до первого звона в покосившейся церкви, где бродят ветра и урок расставанья освоен. Я тебя разлюблю – дом сожгу наш дотла в исступлении жалкого бунта. Без тебя я росла, без тебя я жила, без тебя не состарюсь как будто. Ты оставил меня, как слепого щенка, в подворотне, где корчится вьюга. Я тебя разлюблю: восковая щека вместо губ – и ни слова, ни звука. И застанет рассвет только горстку золы – прах из писем, цветов и полночных объяснений... Вон там уже – видишь – вдали ураган расставанья полощет наши судьбы, как чьё-то чужое тряпье – распадёмся по нитке, по нитке. Даже если ещё мы гуляем и пьём – тут не свадьба, поминки, поминки. Я тебя разлюблю, разлюблю до утра – до рассвета, до первого крика петухов за холмом, где бушуют ветра, и калитка в бессмертье открыта. . . . Ах, это совсем не то, что можно, как брошку, выкрасть, легко разложить в лото и в карты случайно выиграть. Не то, что начнёт кружить, как вальс с чаровницей некой. Не то, что, как крепкий джин, в крови растечётся негой. Не то, что в скрещеньи лбов голубки наворковали. Поверь, ни одна любовь на свете – без наковальни. Из этих и я племён – бессонных безумцев беглых – Такое на нас клеймо, прошедших сквозь это пекло. Как кровь потечёт из вен измен исступленных братство. Поверь, ни одна из вер на свете – без святотатства. . . . Ты выбираешь музыку – на самом горячем срезе яви длится Бах, и плечи, словно воздухом несомы, почти прозрачны, длятся невесомо, и губы длятся, длятся на губах. Дрожат ресницы, клонятся, скрывают живую черноту зрачков, где боль на миг уходит, и судьбы кривая запутанные корни вырывает из смертной тверди, из земных забот. И жить бы так, но нам нельзя, ты знаешь, поверить яви – снова нашу ночь мы окружаем символами сна лишь. Миг оборвав, опять уходим в залежь слепых столетий – друг от друга прочь. Как комьями земли, другими днями закидывает нас, и на губах лишь привкус пустоты – над всеми снами, над явью и над тем, что между нами так обречённо вечно длится Бах. . . . Ещё одна любовь родным явилась ликом и сердце повела над пропастью во ржи. И воздух зазвенел в предчувствии великом и грёзы над землей летали, как стрижи. И грозы подошли к полям почти вплотную. И громы пронеслись, как узнаваний сонм. И нежности лучом я стёрла запятую между тобой и мной, реальностью и сном. Но оставляя сон, где весь перецелован, ты был душой моею, к тебе я наяву пришла, чтобы сказать тягуче-ломким словом, что долгожданны ливни, что я опять живу. Ты руки на груди скрестив, не отрываясь смотрел в мои глаза холодным янтарём. И засыхала рожь, и вымерзла трава вся. Стрижей срывало в пропасть метельным январём... . . . Триптих Разлуке 1. Сиютекущего времени рана ширится – в бесконечность течёт страданием, густотою беззвёздной вечности. Кислорода нет. Лёгкой ширмою отделилось небытие – просвечивает. Сиютекущая рана имени, в суть любовную погрузившая – и не выбраться. Ты спаси меня, ты спаси меня, Господи – дай мне снотворное выбора. Я засну, а проснусь – и в завтрашнем дне затянется рана вечная. Но сейчас так темно, так страшно мне в преисподней этого вечера. 2. Господи, не показывай мне его, не мучай. Каждую родинку помню, каждое прикосновенье. Сердце не выдержит. Нас ничему не учат наши падения, эта – ножом по венам – бесцеремонность чужой нелюбви. Всё терпче вкус у неистовств наших – чем ближе к смерти. Окаменев от боли, разлуку терпим – пытку, которую только Господь отмерить волен и отменить. Как светло к нему мчит каждая клеточка крови, тоской увита: Господи, покажи мне его, не мучай. Мир погружён в бесцветье. Так дай – увидеть. 3. Я пришла в одинокий дом – в тишину, что страшней войны. Там, в пространстве уже пустом наши тени ещё видны: жест бегущий и жест вослед устремлённый, но их прожгла тишина – как во сне, во сне... Милый, вот и мольба прошла. Разминулись давно с собой. Не послать за собой посла. Ах, какой потайной тропой, милый, милый – любовь прошла. Память, память – запретный дом. Стены я разобрать пришла. Всё бестрепетно, всё с трудом. Милый – это ведь жизнь прошла... . . . Прошу тебя ко мне не приходи во сне, где каждый жест преувеличен, где все часы отстали на один старинный век в обманчивом обличье твоей любви, где так бессмертно плыть в горячем поцелуе – в нежной лаве – вдруг вырвавшись из-под гранитных плит разлуки – управительницы яви. Ведь пробужденье – вот уже оно, и будет сердце плакать, обольщеньем напрасным так светло подожжено. Не приходить в мой сон – пообещай мне. . . . Отрекись от любви, отрекись – вторишь ты безразличному времени, и мне душу мазок за мазком его кисть замалёвывает, и прения бесполезны. Но как от тебя отрекусь, и покорная времени, вроде бы, если я знаю тебя на вкус – всего, до последней родинки? Если я ранние шрамы твои чаще губ целовала и длительней? Ты моими не пойман сетями любви, Но обвит поцелуев нитями. И все детские жесты я знаю твои – угловатые, милый, те самые, что моими считались, пока до крови время грубо с меня не стесало их. Эти выходки счастья всё так же могу я назвать тем единственным словом лишь, если сам ты всё так же легко с моих губ невозможные годы сцеловываешь. Отрекись, отрекись от любви – повторяешь, казня поцелуями, и до звёздной истомы я губы твои пью ночами бесследными, лунными... . . . А.Р. Ну не смотри так грозно, не смотри. Я знаю, как прекрасно неприсуще тебе небытие – поговори, со мной – к тебе присушка как к воздуху была, и кровь болит так много лет с тех пор, как разлучил нас закон земной. Среди могильных плит тебя искать душа не научилась. Поговори со мной. Не наяву, так хоть во сне – назначь ещё свиданье. Я без тебя столетия живу в замедленной неволе увяданья. А ты стоишь и смотришь – этот взгляд моей душой владел, как рыцарь замком наследственным. Возьми меня назад – в тот мир, что был любовью нашей заткан, как кружевом волшебным, окрылён и наизусть затвержен вдохновенно: стихи, снега, рассветы, лба наклон, смиренье рук и счастья всполох в венах. Стоишь и смотришь, как лесной олень до выстрела за миг в безмолвной чаще – до пробужденья моего обратно в плен реальности – без нас ненастоящей. . . . Д.Б. «Снег идёт, снег идёт, снег идёт и всё в смятеньи...» Б.Пастернак. Нынче будет лишь так, (беспредел беспробуден): буден ржавый пятак, где нас вместе не будет. Будем – в разных местах, в разных масках на лицах, в мятежах, в маятах, что намерены длиться. Вместе – нет. Мести нет тяжелее и горше. Снег идёт столько лет. Снег идёт, но в пригоршне – что теперь? Лишь вода Леты, в днях сумасшедших в никуда, в никогда постепенно ушедшей. Страсти нежный диктат кровь уже рассосала. Скороспелый диктант расставанья, вокзала, суеты, тесноты – вот на смену что нынче. Даже страх пустоты приглушён, обезличен. Только несколько нот из тех далей бессмертных голос вдруг донесёт, но продлить не посмеет. . . . Так стонут провода незримого накала. Ты помнишь, как беда нас ночью окликала? Ты помнишь – прядь волос струилась по ключице? Вот нам и довелось доподлинно – случиться. Не мужество ли – риск реальности? Пригубим? Риск площадных актрис, цыганок, бьющих в бубен на всех просторах тьмы – мне ведом и оплачен. Но этот посох: «мы» – сухой, старинный, зрячий, один сулящий путь – что это, дар иль вызов? Ведь только лишь рискнуть – и вверх со всех карнизов ночных, слепых – на свет обрушиться. Так значит, уже развилок нет? Уже нельзя иначе? Так – в жизнь, прикрывши дверь от всех смертельных истин? Но ночь тайком, как зверь, из комнаты на пристань вновь прокрадётся: нам не суждено – в объёмах. В объятьях по утрам и у судьбы – в обоймах, к ней вечно на постой стучимся без усердья. Мы – вечный, холостой бесплодный выстрел в сердце. Вот так и я к тебе ласкаюсь, словно ветер. Ты разгадал теперь, что нет меня на свете? Я – вольная стрела, сбежавшая из тира, Когда-то я могла выигрывать у мира. Теперь скажу: не верь. И прошепчу: останься. Ночь прокралась, как зверь вдоль пригородных станций. Так – в смерть, прикрывши дверь от всех земных нотаций. Жизнь прокралась, как зверь, вдоль пригородных станций. Но – слушай. Не перечь. Ещё взорвётся зуммер. Разгон подобных встреч никем не предсказуем. Сегодня – под откос, А завтра – в поднебесье. А завтра – во весь рост. А завтра – сколь ни бейся, не заболтаешь кровь, мигренью не подменишь тоску, случайный кров покинуть не помедлишь. Мой вечный! Уходя, не уходи – послушай: вот формула дождя, сбежавшего по лужам. Вот формула весны у смерти под стопою. И вечной новизны, и нас, и нас с тобою: забвеньем, как песком засыпет вечный город. И будет жизнь мыском копаться в нашем горе, ероша черепки и празднуя победу. И будут так крепки запреты и обеты! Всё будет, как и встарь, в цепях, в чехлах, в корсете. Каким далеким стал на стёршейся кассете сквозного бытия твой голос! Звёздной корью переболев, и я пущу земные корни. Ни взглядом, ни строкой не обойду приличий – ни птицей, ни рекой меня ты не накличешь. И даже моя тень уважит сей обычай. Но слушай: будет день – обычней всех обычных, когда (усмешка – с уст. и век, как миг – галопом!) я так к тебе рванусь, что жилы мира – лопнут. 7. Из цикла «Отыграны старые пьесы» Проулок – жизнь, ей суждено суженье. Почти со стороны уже, как тень, смотрю на упрощение сюжетов любви и многожанровость смертей. . . . Время уйдёт, а тебе, закутанной в яркую шаль с головой, будет не слышно – за пеньем, за куклами в детской ночной. Но когда-нибудь утренней правды пугаясь, дошедшей с молвой, что на дворе холода и разруха, в зеркале ты отразишься старухой. . . . Отыграны старые пьесы – не пишутся новые роли. Сезон наваждений окончен, и в театрике выключен свет. И можно, конечно, уехать куда-то ещё на гастроли, но лень паковать чемоданы и сил путешествовать нет. Брожу по заброшенной сцене, где краски сошли с декораций. Лишь память являет обрывки из ярко отыгранных лет. И можно, конечно, собраться и можно опять постараться создать походящую труппу, но сил репетировать нет. Как тихо. Без времени сутки устало плетутся куда-то. Я выйду во двор, не смывая навеки прижившийся грим. И первому встречному молвлю: останься, я так тебе рада. Присядем давай на крылечко – о чём-нибудь поговорим. . . . Октябрь, октав твоих неисчислимых тревожный сонм...плывут издалека надгробия пожизненно любимых и уплывают словно облака. Полжизни нет, а может, нет и жизни, когда октябрь так карты разложил, что позвонить нельзя: запрет натиснут на сердце, как кольчуга. Сколько сил положено на многолетний сговор с безмолвным октябрем – и всё зазря. Твой голос – равнодушный промельк скорый, как будто ядовитая заря на сером небе перед чернотою, зимою, чередою всех невстреч. Октябрь, я отравлена не тою Любовью – прикажи меня стеречь, чтобы опять не ринуться, не сбиться. Все числа перепутай, как листву, прошелести: родиться – как разбиться. И жить уже во сне – не наяву. . . . Триптих «Меланхолия» 1. Жизнь всё быстрей захлопывает ставни, всё нереальней, всё грустней она. И странно мне всё ту же неустанно роль исполнять и знать: предрешена развязка в незатейливом спектакле, который всё трудней принять всерьёз. То, как когда-то в детстве воспитали, не пригодилось. Ход событий прост: король умрёт, с шутом скрестив рапиры. А кто иное что-то полагал? Всё началось с Расина и Шекспира, закончится как Блока «Балаган»... 2. Уже как будто глядя сквозь стекло на сцену, где сама себе читаю любовный монолог, где так светло и первозданно так – я вычитаю сама себя из пьесы бытия и удивляюсь, что легко справляюсь с остатком. Рождество прошло, тая яд обольщений. Щедрый Санта Клаус мне лишь мешок дырявый преподнёс. Пожал плечами, щурясь виновато, да и ушёл, мурлыкая под нос, мотивчик странный – в бороду из ваты. А я осталась, вечно за стекло смотреть, как плачет девочка от счастья, где незаметно время истекло для жизни, не решившейся начаться. 3. Метели датской письмена на русский не переводимы. И кажется, что нет меня на свете, где сердца, как зимы, где жизнь расходится по шву – как тот кафтан нелепый Тришкин. Всё, что любила, чем живу – уже обманывало трижды. И Андерсена колдовство не помогло печальной Герде постичь комедий естество в исконном облике трагедий. Чужой зимы старинный хлад судьбы меняет изначальность. И жизнь, что вся не в склад не в лад, чем совершенней – тем печальней. . . . Пражское Оглянешься – уже травою, должно быть, сорною – быльём – жизнь поросла, и волки воют в моих садах. С одним бельём линялым после всех нарядов я остаюсь. С одним смычком от скрипки. После всех парадов – уже бочком, уже молчком. Да что слова – давно травою, той самой – сорною – быльём жизнь поросла, и кружит ворон над тем, что некогда жильём звалось. Лишь есть на свете город, где дома тоже не совью, но каждый силуэт как повод влюбиться заново в свою смешную душу, что бездонна в тоске по людям и теням. Душа – она всегда бездомна, лишь тело тянется к стенам. И этот поединок вечен, как Пражский Рыцарь на посту. Мне только бы в последний вечер стоять на Карловом мосту и наблюдать, не отрываясь, как будто эта блажь в крови – разминовение трамваев на пражских улочках кривых. И чувствовать – уже к весне природы повернулось действо. И почему-то как во сне невыразимо близко детство. . . . На сказках с молоком растём – притоком их оживают вены бытия. И детства нежно вылепленный кокон – к «Дюймовочке» обложка. Потерять дар чуда предстоят ещё уроки для взрослых...Под полночный бой часов – появятся сухие расшифровки старинных тайн, туманных голосов. И ляжет чертежом скупым на ватман, уже загадок больше не тая, всё то, что так чарующе невнятно манило у истоков бытия. . . Так отшлифована, что любо взглянуть – ни бунтов, ни страстей. Так отшлифована, что глупо жить в прежнем вихре скоростей. Стою остуженным вулканом – покорная календарю. И ни минуты не лукавлю, когда судьбу благодарю за тихое теченье будней, за их простые падежи. Уже любовью безрассудной не распалить моей души. И на меня нашлась управа: вернув от юности ключи, упрямство в сундучок упрятав, могу смирению учить. Так отшлифована, что вечный не нарушаю ход вещей. Иду Всевышнему навстречу: прошу не воли, а вожжей. И опровергнут, и отвергнут путь наваждений, тайн и смут. Так отшлифована, что, верно, есть элемент искусства тут. И, может, становиться старше – вознагражденье бытия? Так отшлифована, что страшно: на самом деле это я? . . . А.Н. Есть люди как цветущие могилы. Не верьте красоте их совершенной. Она лишь блик, лишь всплеск вселенской бездны, в которой бытие берёт истоки. Там, глубоко, в подземных лабиринтах – останки всех промотанных столетий и всех надежд, которые упали в осенний сад прозрачною листвою. Там есть одна глухая галерея, где на стене в резных тяжелых рамах – портреты всех уродств надменно скорбны. Им странное присуще совершенство. Там гипсовые маски наваждений смиренны и загадочны: пустые глазницы их – как выход в бесконечность. Там время продвигается свободно в любом из всеx возможных направлений, а в пыльных сундуках лежат костюмы для всех ролей и образов, возможных в пределах бытия и даже дальше, но повод их достать не возникает. Один актер опять всё ту же пьесу читает – и ему не много надо: холщовый фрак, туманная манишка, да несколько слезинок для браслета... Есть люди как цветущие могилы. Не верьте голосам их вдохновенным. Не верьте лучезарности небесной – нежнее, чем у ранних незабудок. Они так одиноки, но при этом намного больше, чем считают сами. Наверно, потому, что в совпаденьях случайных с внешним миром – будь то слово, движенье, жест, мираж, фатаморгана – известное находят утешенье. Они совсем другие, но при этом так вкрадчивы, так гениальны в свойствах покорного, податливого воска, извечно подогретого движеньем сквозного бытия. Их дар – лепиться, а не лепить. Они нигде и всюду и так легко между землей и небом находят и теряют воплощенья. Удачно избегая разрушенья подземных тайников, они беспечно и вкрадчиво цветут, как незабудки в пределах, обозначенных судьбою, но корни их с рождения питают таинственные гибельные соки. Есть люди, как цветущие могилы – не верьте их безбрежному покою! Они столь иллюзорны в мире внешнем, что кажутся всего лишь сочиненьем на заданную тему в школе странных явлений, не подвластных обобщенью. Они живут с тоской всепониманья, которое беспомощно, как вспышка случайного огня во тьме кромешной на брошенной окраине Вселенной. Их назначенье – в даль смотреть и слушать церковный звон – кладбищенский – вечерний, где в тишине цветущие могилы хранят мольбу всех умерших столетий и всех надежд, которые упали в осенний сад прозрачною листвою. Там как нигде таинственно едины и жизнь, и смерть, и тьма, и свет, и корни земных грехов, питающие святость. Есть люди, как цветущие могилы... 8. Из цикла «Возьми моё сердце в руки» (из переводов с датского Тове Дитлевсен ) Возьми моё сердце в руки, возьми осторожно, нежно – оно ведь теперь твоё. Как билось оно тревожно, как будто в метели снежной. Теперь оно так спокойно, теперь ведь оно – твоё. В любви обретая силу, сжимаясь птенцом в разлуке, к тебе одному стремится, тобою одним живет. Возьми моё сердце в руки, не отпускай вовеки. Так радостно сердцу биться - оно ведь теперь – твоё. В ладонях твоих, мой милый, пусть сердцу легко поется, но помни всегда отныне, что если в бессилье слов вдруг сердце замрёт в кручине, заплачет и разобьётся – твои не сумели руки мою удержать любовь. . . . Вечные трое Два образа мужских за мною следом идут всю жизнь – один мне мил и люб, другой меня своим считает светом, молитвой, что с его не сходит губ. Один в моих запретных снах весенних живёт желанной сутью бытия. Другой в моё стучится робко сердце, но не хочу его услышать я. Один мне дарит наважденье счастья, салютом озаряющего ночь. Другой мне жизнь отдать готов, но часто мне часа подарить ему невмочь. Один в моей крови блуждает жаром и будит страсти яркие цветы. Другой дары в костёр несёт задаром и жаждою томится у воды. О женщины – пред вами на коленях не те, кого любить и вам дано. Лишь раз в сто лет, быть может, два явленья земной любви сливаются в одно. . . . Ревность Приложив ладонь к лицу, я изваяньем нелюдимым замерла – с другой танцует целый вечер мой любимый. Ах какую ей улыбку лучезарно молодую дарит он – так юность скрипку вдруг берёт и с ней колдует. Той мелодией забытой я сама пьяна бывала. Сколько было в танцах сбито каблучков – а мне всё мало! Мне казалось, что так нежно может лишь меня мой милый обнимать, но, веки смежив, окрылённый и счастливый он с другою кружит в вальсе. Обо мне стирая память, взгляд её надменно властный приковал его цепями. Ярких губ её пещера приоткрыта дерзкой тайной. И моя разбита вера в оберег наш обручальный. Так любовь уходит дымом, лишь тоски надсмотрщик вечен. Изваяньем нелюдимым я стою одна весь вечер. . . . Живёт во мне и умирать не хочет та девочка, которой я была. В озёрах глаз – в зеркальных дебрях ночи – вдруг прмелькнёт на миг – легка, смела – чтобы найти пропавшую бесследно улыбку детства, первые слова моей любви и первозданность лета надежд, что облетели, как листва. И право же – кого ещё спросить ей, где юность моя звонкая парит? где счастье, вдохновенье, страстность, сила? Где мой талант – он в землю не зарыт? Но лишь в ответ струящейся печалью по стёклам дождевые письмена. Так быстро, что сама не замечаю, смывают годы лица, имена. Но девочка жива во мне, и голос её, как шум ручья, не заглушить. Всё шепчет мне: о будни раскололась твоя мечта, и вся наука жить свелась к тому, чтоб хлеб добыть насущный. Ты обрела семью, детей, друзей, но ты одна, и круг житейский сужен до точки в суетливой гонке дней. Но вот моя рука – пойдём скорее в твой город детства в дымке голубой. Там в доме печь старинная согреет и освежит лицо морской прибой. Там на качелях ветра раскачает твоя мечта и в небо унесёт. Ты устремишься легкая, как чайка, в свой светлый мир любви – за горизонт... А что же я? Закрыв глаза устало, той девочке твержу: так много лет, прошло с тех пор, как я во сне летала. Минувшего размытый силуэт уже не различить в дали туманной. Но только ты живи во мне, живи – та девочка, чья вера не обманет, чей голос как хрусталь в моей крови – тяжёлой, тёмной, рвущейся к последней земной черте – её перешагну, когда во мне совсем исчезнет след твой, и ты уйдёшь навеки в тишину... 9. Стихопроза: Быль о сказке За мной приедет датский принц на белом пароходе и увезёт к белым чайкам и светлым чаяниям. Вся жизнь – сначала. Копенгаген – торговая гавань. Лето. Белое Лего яхт на яхонтовой воде. Изгибы каналов. Как наливается радостным светом день. Тень Андерсена в таверне. Так, верно, творятся сны. Туманы предвосхищений – и щели нет для сомнений: впереди – сказка. Скатывается дождевою слезою осень с нарумяненных щек средневековых домов. Быстро смывается летний грим. Ритм неулыбчивых буден. Мечется сердце под барабанную дробь чужой речи. Не вы-го-ва-ри-ва-ет-ся датский глагол. Голод на свои родные словечки. Гололёд чужого произношения – падаю, падаю, падаю. Голая пристань с замёрзшими птицами кораблей. Стальные кинжалы волн. Зимняя темнота – не та нота. Датский принц превращается в надсмотрщика. Щека в щетине. Тина бытовых повторов. Чахлые выяснения нечаянных отношений. И это всё? Одиночество – ночи стонут от пустоты. Я пробираюсь задворками бытия к себе самой, я хочу выйти на соборную площадь любви, но не знаю дороги. Дорогие, далёкие мои, почему я здесь? С детством уже не расстаться, оно навсегда – мишки, зайчики, ирис «кис-кис», мамина тёплая ладонь – лад во всём и всё названо так напевно, так тревожно и нежно – по-русски. Скинуть эту чужую лягушачью кожу, эту вечно настороженно-заискивающую улыбку эмигранта – уличат в косноязычии или нет? Уличат. Улыбки лыковые, липовые. Иноязыкие улицы овеяны хладом, воздух лишён доброты. Добротность быта как арестантская шуба – и это всё? А что ты ещё хотела? Нежного переплетения пальцев? Жасминного запаха волос на подушке? Подумаешь – и так проживешь. Не проживу. Не приживусь. Прижимаюсь к холодному подоконнику. Подкована безразличием ко всему. Безразличие к безразличию к себе – главный совет психолога. Холодно. Холёный мир весь в заморозках безлюбья, и моего тепла не хватило, чтобы его согреть. Сгореть от любви – это на другой планете, это где-то очень далеко – там, где распускается сирень на школьном дворе, где я бегу и смеюсь, падаю на асфальт и обдираю коленку. Калека – это когда обдираешь душу. Душно. Датский принц превратился в свинопаса – не спасся от сказки с плохим концом. Ему не нужна сирень – сирена финансового кризиса воет в его ушах и перекрывает все остальные звуки Вселенной. Всей ленью подсчитывать деньги восстаю и бегу к морю. Оно тоже холодное, но живое – мы оба умеем дышать полной грудью. Груды едва надкушенных, нераспробованных лет. И это всё? Русалочка приросла к камню. Ей уже не уплыть. А мне? Кто вытащит у меня из глаз льдинку – выиграет поединок со Снежной Королевой, посадит на лесного оленя и вернёт мне меня? И тогда я скажу: я вернулась! – в многоголосицу улиц, пахнущих липовым цветом, в воркованье моих междометий, в щебетанье моих друзей – к моим берегам, к моим оберегам. К радости прыгать на одной ножке. И это – всё. Ода балкону Во всех городах мира, отвлекаясь от осмотра классических достопримечательностей, я останавливаюсь и завороженно смотрю на балконы, аккуратно или чуть неряшливо пришитые к бокам старинных домов. Они парят над головами прохожих, как допотопные птеродактили, и на их спинах – алые цветы в треснутых горшках, съезжающих вниз по наклону Времени. И если сносят старый дом, больше всего мне жалко балконы. Потому что именно в этом, на первый взгляд, излишнем дополнении к жилищу и пребывает вместе с многолетним хламом и мимолётными голубями – душа жизни. Немые свидетели радостных и горестных событий, балконы умеют хранить свои тайны. Сонно обмахиваясь развешенным для просушки бельем, слегка покачивая коляску со спящим младенцем, балконы никогда не расскажут о том, как когда-то – может быть, столетие назад – выбегала сюда в полночь юная дева, чтобы обменяться несколькими словами с возлюбленным. Накануне свадьбы с другим. Как на рассвете появился самоубийца, чтобы, бросившись головой вниз, свести последние счёты с жизнью. Постоял-подумал, да не решился. И вот теперь его правнук так безмятежно спит в коляске, а жена внука, напевая, развешивает на балконе ползунки. Без балконов – этого легкомысленного переизбытка – казалось бы, легко можно обойтись. Но посмотрите на дома, где их нет – они похожи на тюрьмы. Или казармы, где мир разделён на две категоричные безусловности: внутри и снаружи. И ничего – посередине. Ничего такого, где можно было бы задержаться на границе между пространством личным и всеобщим, покачаться на убаюкивающих качелях между «да» и «нет». Так дети во всех странах мира очень любят просто стоять на балконе – уже не дома, но ещё и не на улице – и глазеть на мир, почти являясь соучастниками уличных событий и все же сохраняя нейтралитет, находясь везде и нигде одновременно. С балкона можно наблюдать надвигающуюся грозу, подставив лицо под первые дождевые капли, а можно скрыться в доме и пропустить этот всегда неповторимый росчерк природы. Можно увидеть с балкона ту, которую давно и безнадёжно любишь, спешащую куда-то в облачке потаённых дум, не справиться со сладким уколом в сердце, окликнуть её и вернуть из мечтаний в реальность, в реальность своей любви. А потом понять, что именно с этой секунды судьба изменила русло. А можно просто проводить взглядом знакомый до боли силуэт и уйти, притворив за собой дверь. А после, старея, растить алый цветок в горшке, выходить ежедневно на балкон с длинноносой лейкой, бросать голубям крошки хлеба, убаюкивать своё одиночество. О да – балконам! За мужество выбора, за право на слабость и силу, за остановку в пути. За весь тот коктейль бытия, который разлит в эти большие и маленькие балконные чаши – города пьют из них за здоровье своих жителей. Пока есть дома – будут балконы. Как будет и сама жизнь. Как будет и голубем отлетающая память – вслед за гибнущим жилищем, может быть, для того, чтобы переселиться на другой балкон только что родившегося дома? И только лошади летают вдохновенно... Я всю жизнь люблю лошадей. Помню свою страстную детскую мечту, чтобы в нашем дворе вместо машин появился бы конь. Я могла бы кататься на нём целый день, кормить печеньем, расчёсывать ему гриву, заглядывать в его умные печальные глаза. Детская мечта улетучилась как дым, но лошадей я по-прежнему люблю. И лишь недавно догадалась почему: я сама похожа на лошадь. Не случайно же говорят, что в каждом человеке есть черты и повадки какого-то животного. Уж не знаю, похожа ли я на лошадь внешне, но внутренне – это точно! Натура у меня, действительно, лошадиная. Но лошади разные, скажете вы – есть и кривая кобыла, и породистый скакун драгоценных кровей, есть и рабочий тяжеловоз, и пони, который бегает по кругу, есть мустанг-иноходец, и тёмная лошадка, и крылатый Пегас, и двуликий троянский конь. Так кто же я? А я – все лошади одновременно. Точнее, я могу быть каждой из перечисленных лошадей в зависимости от ситуации, настроения и жизненных обстоятельств. Чаще всего я, конечно, конь-трудяга, «лошадка, везущая хворосту воз» – воз бесчисленных жизненных обязательств, стараясь, впрочем, и в покорности судьбе не терять достоинства. Но иногда – ах, иногда я позволяю себе сбросить седло и уздечку и умчаться – только пыль из-под копыт во все стороны летит – в вольные степи. И тогда – ищи меня свищи. Не вернуть меня назад ни благоразумию, ни здравым увещеваниям. Буду наслаждаться свободой и своеволием, пока сама не почувствую: пора возвращаться обратно. И не я ли подобно маленькому беспомощному пони иной раз хожу по замкнутому кругу неразрешимых проблем, сожалений и обид и никак не могу из него вырваться. Бывает, я совсем сбиваюсь с пути, и словно кони привередливые мчусь «вдоль обрыва, по-над пропастью, по самому по краю». И всё-таки не срываюсь вниз. Потому что приходит время, и я поднимаюсь в небеса к вершинам творческого вдохновения, как крылатый Пегас, и все земные неурядицы остаются где-то далеко внизу. Ведь не случайно поётся в детской песенке: «Но только лошади летают вдохновенно, иначе лошади разбились бы мгновенно...» Я и по Восточному гороскопу лошадь. Наверное, это судьба. Copyright © 2014 Нина Гейдэ
Свидетельство о публикации №201406181919 опубликовано: 18 июня 2014, 20:46:15 На mirmuz.com можно вести творческие диалоги. Например, к этому стихотворению можно добавить рецензию, декламацию, художественную иллюстрацию и т.д. Выберите в меню под этим сообщением вид публикации, которой хотите ответить на «Из книги "Тень незабудки"». |
|||